Она уже успела забыть, что бывает так больно. Она уже успела спрятать в своей памяти все прошлые ранения, раскрасившие ее тело новыми шрамами, поверх затейливой сети старых, рожденных псионикой. В памяти - спрятала, но каждый раз, отмываясь от запаха гетто, от чужой и своей крови - вспоминала. Под волосами, за правым ухом - толстая и грубая полоса, оставленная металлической трубой, которой ее оглушили в самые первые ее минуты пребывания в гетто. Если бы она тогда не очнулась, не взяла себя в руки и не наваляла ублюдкам, то сейчас, наверное, просто не была бы. Под левой грудью, на ребрах - косая линия от лезвия, что должно было вонзиться, но лишь рассекло плоть до самых костей, потому что она успела отклониться в сторону, уводя удар на скользящий. Именно после этой раны в ее куртке появились вшитые щитки, а в глазах - новая порция злости. На спине - продольные полосы, скрещивающиеся между собой. Это заживало дольше всего, потому что ей не позволено было воспользоваться медикаментами, кроме обеззараживающего порошка, засыхающего на ранах безобразной коркой. Вырванный пулей кусок мяса на бедре. Проткнутая стеклом ступня. Ожоги, порезы, лопнувшая кожа. Она устала считать их. Она помнит каждую частичку мозаики-боли, составляющей ее жизнь. Она была бы рада все это забыть. И вот снова - больно. И вот опять - только бы добраться до своих, суметь проскочить-проковылять по улицам, не привлекая к себе внимания, потому что слишком многие заходят пнуть недобитого Богомола.
Лицо - белая маска, еще белее чем обычно, в синеву, в серый пепел. На щеках - черные дорожки потекшей краски, которой она подводит глаза, превращая свое лицо в лик фарфоровой куклы. Она даже не понимает, что слезы текут. Просто перед глазами все расплывается, просто больно. Просто вместо отзыва на блокпосте с губ слетает всхлип, а уже потом - нужные слова. И только тогда ее подхватывают под руки, позволяя упасть. И только тогда она позволяет сознанию покинуть себя ненадолго. Чтобы открыть глаза и застонать не только от боли, но и от осознания, что вляпалась посильнее, чем пару часов назад, когда ее правое бедро и голень превратились в красивые ошметки плоти, как будто пережеванной стаей собак. Потому что видит, кто сегодня занимается раненными. И, право, лучше бы ей сдохнуть по дороге сюда.
- Ма-ла-хи-я, - по слогам, сглатывая вязкую слюну, - Е-ще жив, у-блю-док...
И даже пытается улыбнуться, но лишь кривится от боли, вскрикивает жалобно, как зверек, которого пнули кованным ботинком, вытирает набегающие на глаза слезы. Больно, так больно! И дальше будет хуже, это она точно знает.
Ассистентка, из молоденьких, видимо ученица, «пыльца», срезает с Саманты остатки брюк, отрывает присохшие куски толстой кожи, стаскивает развороченный ботинок. И второй, еще целый. И Сэм не стесняется кричать, прокусывая себе губы до крови. Потому что она вовсе не герой, чтобы терпеть мужественно и корчить из себя бесчувственное нечто. На свою ногу она старается не смотреть. И так понятно, что все очень плохо. Фостер роняет голову на стол, на который ее, бесчувственную, сгрузили, и облизывает пересохшие губы. Воды бы. Или яду.







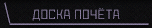




















![Nex[t]us - 2155 год, Детройт](https://i.imgur.com/SlwXo0u.gif)
