Опасность - ловит самым кончиком тонких звериных вибрисов, отросших за время жизни в гетто, за время бытия податливой и одинокой жертвой. Ты должен осторожным быть, ступать по самому краешку, по бритвенному лезвию голыми ступнями, по тонкому остову чужих хрупких косточек, по рисовой бумаге, как ходили когда-то безликие убийцы с раскосыми, темными как у Анхорана, глазами. Раз, два, три, раз, два, три, кружится под музыку убийственного вальса человек в черном. Бумага - остается нетронутой и девственно не смятой. Так не бывает, и все же может быть. Ты должен осторожен быть и чувствовать летящий нож за шаг, фантомной болью меж лопаток. Иначе фантом становится явью, а ты - трупом.
Когда завязаны глаза, так сложно жить и быть, и двигаться и не падать. Но подгоняет, - ударом, криком, лишней болью. Шевелись, детка. Ты же не хочешь сдохнуть? Ты же не хочешь разбиться, упав на асфальт с высоты? На тысячи сверкающих осколков, как статуэтка, что продаются на средних уровнях, в квартале Сакуры, - с белыми лицами, с намалеванными краской губками. Он так любит этих куколок, что лепит ее лицо по образу, по подобию, а она - подчиняется, потому что не может иначе.
«Пойми свой образ, поймай, закройся им как маской», - шепчут губы у самого уха, отвлекая теплом дыхания от вонзающихся в плечи ногтей, оставляющих на светлой коже красно-синие полумесяцы остаточной боли, - «Лицо не может выдавать эмоций, лицо не должно быть живым. Ты мертва, и они, твои жертвы, мертвы. Давай же, девочка, начни понимать. И танцуй».
И она - танцует. Красит губы яркой краской, похожей на чужую кровь. И линию ресниц ведет черненой кистью. Белил не надо, лицо и без того по цвету - полотном. Как это, «полотном»? Она не знает, но так говорят про что-то бледное, про то, на чем болезненно-кроваво лишь глаза репликанта, а остальное ровно-слитым фоном рассеченным лишь линиями шрамов. Разбитая маска-вольто. И губы в крови ненастоящей.
Опасность - ловит чувствительными вибриссами зверя, а потому, пока расширенные в ужасе глаза еще с надеждой и тоской, - предал? Не предал? Убийца или друг, Орто, Орто, за что ты так со мной? - смотрят, тело уже совершает немыслимый, безумный кувырок вперед, подальше, от опасности и будущей боли, что заставляет дыбом подниматься тоненькие волоски на предплечьях. Врезается плечом, грудной клеткой, щекой фарфоровой, треснувшей, в камень стен, но пропускает за плечами чужую злобу, удар предательский. И цифры на комбинезоне выжжены в мозгу, на задней стенке черепа, закрой глаза, чтоб отразились в веках, искаженными, обратно повернутыми. И слез - нет, потому что ждать предательства - нормально и привычно и даже не больно. Не больно, почти, совсем. Только кровью в горле - вкус обиды.
Рвет на груди ветхость одежды, и пальцы сами находят нужную выемку, нужную неровность. И нажимают. От сидящей на земле фигуры - с гуденьем батареи чуть слышным, с объятием биотической волны, растекающейся по коже, до дрожи удовольствия, до дыбом все чувства, расходится по сторонам волна. Ровно через полторы секунды, что мало так для того, чтобы увидеть снова чужой алый взгляд. Что много так, для того, чтобы сделать шаг. И с земли подняться, в стремленьи броситься вперед, к спасительной кишке, к проходу прочь отсюда. Убить его - не поднимется рука. Убить его, того, что носит на себе лицо мертвое и родное, с губами кровью настоящей, не кукольной перепачканными. Подальше. Подальше. По... жалуйста, уйди.
Она тогда очень хотела наклониться, прикасаясь к темной крови, обволакивающей подбородок, губами. Не смогла.







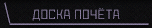




















![Nex[t]us - 2155 год, Детройт](https://i.imgur.com/SlwXo0u.gif)
